

Углич… Овеянный трагической славой, он часто становился местом ссылки или изгнания. Но был он и приютом для тех, кому не находилось места в других уголках необъятной страны. Как для художника Бориса Смирнова-Русецкого, которого к угличским берегам прибили бурные волны его нелегкой жизни.
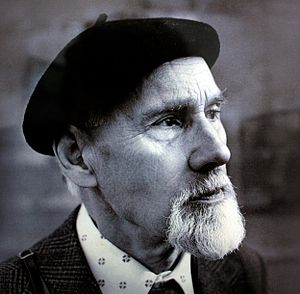 Борис
Смирнов-Русецкий родился в январе 1905 года в Санкт-Петербурге в семье
военного. После революционных событий 1905-1907 гг. его отец выходит в отставку
и поступает на службу в склад Красного Креста. Семья переезжает за Московскую
заставу. И первые впечатления будущего художника – атланты Эрмитажа и
стеклянный земной шар на здании Зингера – сменились новыми переживаниями. В своей творческой
автобиографии Смирнов-Русецкий напишет, что «склонность к созерцанию, чувство
гармонии и ясности в отношении к природе пробудились еще в ту далекую пору и
никогда меня не покидали» (1).
Борис
Смирнов-Русецкий родился в январе 1905 года в Санкт-Петербурге в семье
военного. После революционных событий 1905-1907 гг. его отец выходит в отставку
и поступает на службу в склад Красного Креста. Семья переезжает за Московскую
заставу. И первые впечатления будущего художника – атланты Эрмитажа и
стеклянный земной шар на здании Зингера – сменились новыми переживаниями. В своей творческой
автобиографии Смирнов-Русецкий напишет, что «склонность к созерцанию, чувство
гармонии и ясности в отношении к природе пробудились еще в ту далекую пору и
никогда меня не покидали» (1).
На духовное развитие Смирнова-Русецкого повлиял и круг общения: среди его родственников были весьма незаурядные личности, имевшие непосредственное отношение к искусству: художники, искусствоведы, принадлежащие к объединению «Мир искусства», знатоки музыки.
Получив изначально домашнее образование, Борис поступает в Тенишевское реальное училище, где царил «довольно демократический дух», а затем, после переезда в Москву, – Петерпаульшуле, немецкую гимназию. Это время – время взросления художника, волнений и переживаний, пришедших на смену детской безмятежности, – совпало с трагическими событиями в истории нашей страны. 1917-й, Гражданская война. «Радуясь новизне (семья переехала в Москву, а затем в Кусково. – Е.К.), - писал Смирнов-Русецкий, - я не понимал тогда, что в эти дни подводится резкая черта подо всем составлявшим прежнюю жизнь моей семьи, да и всей России» (2). Тем не менее, первые годы после революции, когда «замечалось необычное стремление к культуре, и для просвещения делалось многое», оказали плодотворное влияние на становление будущего художника. Он открывает для себя новый мир: музыка Шуберта, Листа, Шопена, Вагнера, игра актеров Малого, МХАТапроизводили сильнейшие впечатления» (3). Увлекала живопись. И. Левитан, М. Врубель, В. Кандинский, Н. Рерих, М. Чурлёнис. Последние, по словам Б. Смирнова-Русецкого, «с той юношеской поры оставались «неизменными спутниками моей жизни» (4). Появилось желание стать художником.
Вместе с тем внешние обстоятельства складывались не в пользу сына бывшего офицера. Лишенный права поступать в высшее учебное заведение, Смирнов-Русецкий, окончив среднюю школу, устраивается на службу в Российское телеграфное агентство, затем, после увольнения, – переписчиком в Высшую стрелковую школу, что в дальнейшем позволило ему поступить на вечернее отделение Московского инженерно-экономического института. Все это время Борис не оставляет занятия живописью. В 1922 году появляется то, чему суждено будет стать «визитной карточкой» художника: «я попытался передать переход, – пишет он в автобиографии, – от увядания к зимней прозрачности» (5). К этому же времени относятся знаковые для становления Смирнова-Русецкого встречи. В первую очередь, это знакомство с художником Петром Петровичем Фатеевым, проповедником интуитивного творчества, Александром Павловичем Сарданом, Верой Николаевной Пшесецкой (сценический псевдоним – Руна) и, наконец, в 1926 году – встреча с Николаем Константиновичем Рерихом. «Подъем, моральный и творческий, будто в нас вошло дыхание новой жизни», – так описывает свое впечатление от бесед с Н. Рерихом Смирнов-Русецкий.
В этот период происходят события, во многом определившие дальнейший творческий путь будущего «мастера прозрачности». По рекомендации Н. Рериха Борис поступает во Вхутемас, однако вуз оказал мало влияния на становление его как художника. Вдохновляло другое. Группа, в которую входил Смирнов-Русецкий, вливается в деятельность Общества друзей Рериховского музея, получает приглашение к участию в нью-йоркской выставке. Именно тогда рождается «Амаравелла» (слово индийского происхождения, означающее «ростки бессмертия» или «берег бессмертия») и ее творческое кредо. «Наше творчество, – провозглашали члены группы, – интуитивное по преимуществу, направлено на раскрытие различных аспектов Космоса – в человеческих обликах, в пейзаже и в отображении абстрактных образов внутреннего мира» (6).
«Успех (выставки. – Е.К.), – читаем в автобиографии, – окрылил и дал надежды, что это начало чего-то еще более значительного» (7), а полученные от продажи картины «Гора света» деньги позволили совершить творческую поездку.
Это была первая встреча Смирнова-Русецкого с Угличем. Она стала одной «из идиллических страниц» самого счастливого времени жизни художника: «полного надежд, дружеского общения, творческих сил» (8). 60 лет спустя Углич 1927-го года связывается в памяти художника со сказочным пробуждением. «На подходе к Угличу, – пишет Смирнов-Русецкий, – открылся монастырь, встречавший утро колокольным звоном. Торжество света и радости переполняло меня» (9).

Художник поселился в Покровской слободе, где в те годы ещё существовала монастырская община, организовавшая кооператив, который занимался огородничеством. «Жил там, – читаем в автобиографии Смирнова-Русецкого, – ссыльный епископ отец Иоасаф – высокий, крупный, красивый человек. Я познакомился с ним, мы беседовали с ним о теософии, к которой он относился без ортодоксальных предубеждений. В келье о. Иоасафа стояла фисгармония. У него был прекрасный тенор, и он любил петь. Позже, когда в Углич приехал Александр Павлович Сардан (друг Смирнова-Русецкого и его соратник по «Амаравелле». – Е.К.), то, приходя к о. Иоасафу, он садился за инструмент. Они начинали импровизировать – епископ голосом, Сардан – аккомпанементом на фисгармонии» (10).
А Углич жил размеренной жизнью небольшого провинциального города. Несколько лет спустя историк А.Н. Греч охарактеризует его как городок, «точно позабытый революцией». Здесь, читаем в его считавшейся потерянной рукописи 1932 года, «еще в 1929 году из всех церквей устраивался крестный ход, в усадьбах еще уцелели помещики, в монастырях – монахи, <…> в обиходе жителей сохранилась гарднеровская, поповская и софроновская посуда начала прошлого столетия, и до сих пор шьют монашенки бисером иконные оклады…» (11). И далее: «и в 1929 году, на подступах уже начавшегося грандиозного голода (этой оборотной – или лицевой – стороны пятилетнего плана), здесь были молоко и овощи, волжская рыба, мед и птица, составлявшие вместе с поливной глиняной посудой и щепным товаром красочное содержание базаров» (12). Схожие интонации и впечатления – у Смирнова-Русецкого: «то была хоть и тихая, но естественная и не скудная жизнь. Процветала торговля, шли пароходы, город был тесно связан с близлежащими богатыми деревнями, были открыты все церкви, разносившие по окрестностям колокольный звон, виделось что-то по-кустодиевски живое и яркое в этой жизни летнего городка…» (13). Оставляя эти строки, художник уже знает, что через каких-нибудь два – три года все пойдет прахом, и его вторая встреча с Угличем оставит тягостное впечатление, но пока… «Впервые с поры детства я жил на чистой, незапятнанной природе, – вспоминает он. – Спали мы с Сарданом на сеновале, о еде забот не было, в деревне всего хватало. Каждое утро через сосновый бор шли на песчаные волжские отмели, я делал много зарисовок и этюдов с натуры пастелью. Собственно, то был первый мой цикл натурных работ. Рисовал я и архитектуру древнего Углича. Один из эскизов Воскресенского монастыря оказался позже в частном собрании и в 1957 году чуть не попал на выставку Рериха как его работа. Воскресенский монастырь был упразднен еще до революции, но собор, побеленный внутри, нарядный и светлый, сохранял в целостности иконостас. Директор местного краеведческого музея дал мне ключи, и я долго в тишине, под спокойное воркование голубей, высоко вверху копировал одну из икон» (14).
Закончилась первая встреча с Угличем, подходил к концу и «идиллический период» в жизни Смирнова-Русецкого. Он напишет в своей автобиографии об охватившем его чувстве бездомности – состоянии, оказавшемся символичным для эпохи, в которую вступали его современники. Наступали 1930-е годы. Борис заканчивает учебу в Инженерно-экономическом институте и по совету знакомого поступает в аспирантуру на кафедру металлов. Изучение структуры металлов оказалось весьма интересным для него, как для художника, однако, овладев теорией металловедения, Смирнов-Русецкий вынужден был покинуть институт после проведенной там «чистки». Некоторое время спустя он устраивается преподавателем в автогенно-сварочный техникум (позднее – факультет Московского высшего технического училища), где проработал восемь лет.
«Среди этой непрерывной работы, – читаем в автобиографии, – летнее время выступало как великое счастье: мой отпуск длился два месяца» (15). В череде летних путешествий, в 1931 году – новая встреча с Угличем. Она, возможно, неожиданно для Смирнова-Русецкого, не была похожа на первую: «Я остро ощутил, как изменился Углич» (16). Приехав в город, Смирнов-Русецкий остановился в той же Покровской слободе, где жил всего четыре года назад. И вот горькие строки: «все было иным до неузнаваемости – город умирал. Церкви стояли запертые, исчезло былое оживление…» (17). Греч (он, как помним, писал об Угличе в 1932-м) упоминает запертые железные двери лавок с уже успевшими заржаветь замками, и «наглухо закрытые» ворота купеческих особняков, и отсутствие людей на бульваре вдоль волжского откоса. «Все спит и поросло травой забвения, точно в сказке о спящей красавице. И думается: когда же придет принц и нарушит многолетний сон, разбив околдовавший городок чары?» (18).
В середине 30-х пришел Волгострой (вряд ли можно назвать его принцем…). В ходе строительства ГЭС создаются механические мастерские, а затем механический завод (Механический завод № 2 Волгостроя НКВД, в дальнейшем – Угличский ремонтно-механический завод), завод ТТК-2 (с 1954 – Угличский часовой завод) и другие предприятия. Начинается новая страница истории города. И если в рукописи А. Греча рефреном звучат слова «город-музей», то в середине XX века Смирнов-Русецкий увидит Углич «полупромышленным, полумузейным городом, без памятного мне своеобразия» (19).
Это будет третья встреча художника с Угличем, встреча во многом вынужденная, в отличие от двух первых. Этой встрече предшествовал арест Смирнова-Русецкова (24 июня 1941 года) за «антисоветскую пропаганду» и «связь с русским эмигрантом Рерихом», осуждение на 10 лет исправительно-трудовых лагерей и ссылка. «Наступила длинная полоса жизни, о которой не хочется вспоминать, - напишет он потом. – Основное ощущение тех лет – утрата себя как человеческой личности» (20). В 1955 году Смирнов-Русецкий возвращается в Москву, но, не имея права на проживание в областных центрах, вынужден был искать себе пристанище вдали от родных и близких.
«Я сел в поезд, – читаем на страницах автобиографии, – приехал в Ярославль, но, получив отказ в гостинице, отправился в Рыбинск, где попытался устроиться в институт или техникум, это не удалось; поехал в Череповец – тот же результат, затем добрался до Ленинграда <…> Через некоторое время <…> я купил билет на поезд, шедший в Москву кружным путем через Савёлово (лучших билетов в летнее время не смог достать), и вот в Калязине я экспромтом сошел: вдруг найду здесь работу? Требовался преподаватель техникума, но едва дошло до оформления, мне с самыми неловкими маневрами отказали. Поехал за сорок километров в Углич, решив, что в любом случае тут надо попытаться осесть» (21). Это намерение осуществилось, и Углич на полтора года становится приютом для художника. Первоначально Борис попытался найти место в техникуме. Однако «наступала осень, деньги кончались, а в здешнем техникуме всё не решали мой вопрос» (22). Выходом из сложившейся ситуации стало устройство на ремонтно-механический завод (Угличский завод № 34). В эти годы здесь размещались заказы Министерства обороны (изготовление универсальных понтонов для плакштоута, производство авиационных бомб), что способствовало развитию инженерных служб и притоку специалистов. Смирнов-Русецкий пишет: «Пошел на завод, представился как бывший доцент МВТУ. Расспрашивая, что привело меня сюда, главный инженер, видимо, догадывался о причинах: прежде весь завод обслуживали зэки, и теперь среди инженеров было немало вроде меня. Я был оформлен в лабораторию, где многое наладил, и через полгода стал ее начальником» (23). На страницах автобиографии Углич больше не упоминается, он, «полумузейный» – «полупромышленный», останется на картине 1956-го года. И это – стройные, тонкие березки на крутом волжском берегу… «Над Волгой. Весна. Углич».
В сентябре 1956 года Смирнова-Русецкого реабилитируют, и он возвращается в Москву. Дальше – устройство в институт ВНИИМонтажспецстрой, долгое и нелегкое налаживание дружеских и творческих связей, затем, с эпохи «оттепели» – «подлинное творческое обновление» (24). Смирнов-Русецкий будет много путешествовать. Прибалтика, Карелия, Судак, Коктебель, Феодосия… Новых встреч с Угличем уже не будет, но город, запечатленный на полотнах, навсегда останется с «мастером прозрачности» и ценителями его творчества.
Примечания.
1. Смирнов-Русецкий Б.А. Идущий. Творческая автобиография. – Самара: Издательский дом «Агни», 2005. – 56 с. – С. 5
2. Там же. С. 7
3. Там же. С. 10
4. Там же. С. 9
5. Там же. С. 12
6. Там же. С. 28
7. Там же. С. 29
8. Там же. С. 30
9. Там же
10. Там же
11. «Насыщен Углич стариной… Из альманаха «Памятники Отечества» за 1995 год № 32 // Угличанин – 24 января 2018 года, среда, № 3 (156)
12. Там же.
13. Смирнов-Русецкий Б.А. Идущий. Творческая автобиография. – Самара: Издательский дом «Агни», 2005. – 56 с. – С. 30-31
14. Там же
15. Там же. С. 37
16. Там же. С. 30
17. Там же. С. 37
18. . «Насыщен Углич стариной… Из альманаха «Памятники Отечества» за 1995 год № 32 // Угличанин – 24 января 2018 года, среда, № 3 (156)
19. Смирнов-Русецкий Б.А. Идущий. Творческая автобиография. – Самара: Издательский дом «Агни», 2005. – 56 с. – С. 37
20. Там же. С. 42
21. Там же. С. 45
22. Там же
23. Там же
24. Там же. С. 48